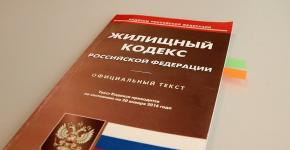Язык вместе со знанием явление общественное, социальное и к его изучению можно подходить с двух сторон. С одной стороны исследовать строй языка, как с точки. Стиль «плетения словес», его основные черты
3. 2. Особенности книжно-славянского типа языка русской народности. «Второе южнославянское влияние». Реформа правописания. Стиль «плетения словес», его основные черты
В XIV–XVIвв. сохраняются два типа литературного языка: книжно-славянский и народно-литературный.
Книжно-славянский тип языка продолжает в это время быть церковным по преимуществу, но сфера его использования расширяется. Во-первых, этот тип языка по-прежнему используется в культовых книгах, но книг житийно-религиозного содержания на Руси становится гораздо больше. В это время происходила канонизация новых русских святых, книжники проявляют особый интерес к житийной литературе. В Киевской Руси жития большей частью переводились с греческого языка, были копии с болгарских житий, и намного реже составлялись на Руси русскими книжниками.
В XVв. появляются специальные «списатели», занимавшиеся составлением житий святых. Среди них выделяется имя Пахомия Логофета, серба по происхождению, афонского монаха, который прибыл в Россию по приглашению московского князя в 1460 г. Он был известен составлением «Жития Кирилла Белозерского», «Жития Алексея митрополита».
Во-вторых, книжно-славянский тип языка становится стилем духовной литературы, стилем полемическим. В этот период появляются в довольно значительном количестве произведения, содержащие своеобразные дискуссии с наступающим на Восток католичеством, стоящие у истоков зарождения публицистической литературы.
В-третьих, книжно-славянский тип языка используется в стихотворных литературных произведениях – виршах.
Расширению сферы влияния книжно-славянского типа языка способствует и т.н. второе южнославянское влияние на Руси.
С укреплением централизованного Русского государства и с победой над монголо-татарами вновь восстанавливаются былые связи Руси с южными славянами. Это приводит к проникновению в Московию южнославянской (болгарской) литературы. Болгарский язык XIVв. был уже иным, нежели в предыдущие эпохи. Теперь он гораздо больше отличался от русского языка. Старославянские книги в Болгарии подвергались порче под влиянием разговорного болгарского языка. Кроме того, в Болгарии и Сербии в первой половинеXVв. развились разного рода «ереси» – богомилов, еврействующих сект. Все эти факторы (влияние живого языка, ошибки переписчиков, искажение первоначальных переводов различным их толкованием) настолько испортили старославянский язык церковных книг в Болгарии и Сербии, что стала необходимой реформа книжного дела. В Болгарии правка религиозных книг осуществлялась под руководством болгарского патриарха Евфимия Тырновского (1320–1402) (Тырново – столица среднеболгарского царства).
В связи с книжной реформой в Болгарии изменилась сама система перевода книг с греческого на старославянский язык; суть этой новой системы состояла в стремлении делать переводы как можно ближе к языку оригинала. Отсюда прививаются в болгарской письменности подражания греческой орфографии и графике.
В начале турецкого нашествия активная культурная жизнь переместилась на несколько десятилетий из Болгарии в Сербию, где при дворе деспота Стефана Лазаревича и в монастыре Манассия на реке Ресаве проходила деятельность видного южнославянского писателя, ученика Евфимия Тырновского Константина Костенчского (около 1380–1431). Он был автором обширного грамматического трактата, посвященного графико-орфографической реформе языка. В средневековье языковое и религиозное сознание образовывали единое целое. В представлении Константина Костенчского чистота книжного языка связывается с чистотой православия, а ереси являются прямым следствием ошибок на письме. Отсюда происходят требование абсолютной точности во внешней форме письменного слова, стремление установить строгие графико-орфографические правила. Каждая особенность правописания, произношения слова имеет свой священный смысл и способна изменить значение всего текста, исказить его, поэтому каждой букве приписывается особая роль, большое внимание уделяется надстрочным знакам. Интересно, что, по мнению Константина Костенчского, в основе книжного языка лежит не болгарский или сербский язык, а «тънчаишии и краснеишии рушкыи езыкь» (имеется в виду церковнославянский язык древнерусского извода). Рукописи «старых преводник ресавскых» славились в Сербии как наиболее исправные, и южнославянские знатоки разыскивали их даже в XVII в.
Общий подъем духовной жизни в Византии, Болгарии и Сербии сопровождался возникновением множества литературно-переводческих и книжных центров. Этот культурный расцвет не был локальным явлением, замкнутым в национальных границах. Он охватил собой все православные страны и народы, затронул разные области духовной жизни: книжный язык, литературу, богословие, иконопись и др.
Духовный расцвет Болгарии и Сербии был оборван иноземным нашествием. В конце XIV в. Сербия и Болгария были завоеваны турками-османами. В 1389 г. в битве на Косовом поле Сербия потерпела сокрушительное поражение от турок. В 1389 г. пала болгарская столица Тырново, а через три года турки захватили Видин, последний оплот болгарского сопротивления. Почти на пять столетий в Сербии и Болгарии установилось иноземное иго. В эпоху турецкой экспансии многие южнославянские книжники нашли убежище в монастырях Константинополя и Афона («монашеской республики» на Халкидонском полуострове в Эгейском море), крупнейших центров греко-славянских культурных связей, где издавна существовали тесные и плодотворные контакты между греками, болгарами, сербами и русскими). В XIV в. в Константинополе и прежде всего на Афоне переводились, редактировались и затем распространялись по всему миру православного славянства книги. Именно они, получая повсеместное признание, определяли собой характер литературно-языкового развития. Целью книжной реформы, которая велась южными славянами в XIV в. в афонских монастырях, было стремление восстановить древние, восходящие к кирилло-мефодиевской традиции нормы единого общеславянского литературного языка, в XII–XIII вв. все более и более обособлявшегося по национальным изводам, упорядочить графико-орфографическую систему, приблизить ее к греческому правописанию. II южнославянское влияние носило интерславянский характер. Это было стремление возродить старославянский язык как средство межславянского общения. Но при этом особо подчеркивалась связь с греческой культурной традицией.
В середине и второй половине XIV в. происходит возрождение прерванных татаро-монгольским нашествием связей Руси с книжными центрами Константинополя и Афона. Интернациональное монашеское содружество в значительной степени определило то культурное влияние, которое испытали на себе Москва, Новгород, Тверь и другие русские земли. Ни один период не дал столько рукописных книг, созданных русскими писцами за границей, как вторая половина XIV – первая четверть XV в.
После завоевания турками Балкан в Московской и Литовской Руси появились южнославянские выходцы. Болгарские и сербские книжники, спасая книжную церковную культуру, переезжают на Русь, в Москву, под покровительство московских князей. В Москве южнославянских деятелей принимают с почестями, назначают их на высокие церковные посты. Они и перенесли на Русь влияние южнославянских языков на русскую письменность. Среди южнославянских эмигрантов были одаренные писатели. В их число входил сподвижник Евфимия Тырновского болгарин Киприан (около 1330–1406), долгое время живший в монастырях Константинополя и особенно на Афоне, ставший на Руси в 1390 г. московским митрополитом. Он занимался литературным творчеством, составил новую редакцию «Жития митрополита Петра», в которую включил пророчество святого о будущем величии Москвы при условии сохранения ею и защиты православия. В России Киприан занимался исправлением и переписыванием книг, переводил с греческого языка.
Также на Русь переехал племянник Киприана Григорий Цамблак (около 1365–1419), занимавший посты литовского и киевского митрополита. Он был одним из наиболее плодовитых учеников Евфимия Тырновского и видным представителем его литературной школы, долгое время жил и работал в Болгарии, на Афоне, в Константинополе.
Позднее, до 1438 г., в Новгород с Афона переехал иеромонах серб Пахомий Логофет (умер после 1484), трудившийся также в Москве, Троице-Сергиевом и Кирилло-Белозерском монастырях. Он прославился своими многочисленными литературными сочинениями, получил широкую известность как церковный писатель, создавший «Житие Кирилла Белозерского» и переработавший «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого. Жития, написанные Пахомием Сербом, стали формальными образцами для всей последующей официальной агиографии.
Разумеется, митрополиты Киприан и Григорий Цамблак прибыли на Русь не одни, а с сопровождающими их лицами и имели при себе книги, получившие распространение в рукописной традиции. Сохранилась «Лествица» Иоанна Лествичника, переписанная Киприаном в константинопольском Студийском монастыре в 1387 г. и позднее привезенная им в Москву. В 1402 г. эта рукопись была специально доставлена в Тверь, где с нее сделали список.
В Москве они занимаются правкой церковных книг, осуществляют новые переводы греческих книг на церковнославянский язык русской редакции. Начиная с конца XIVв. в Москве под руководством митрополита Киприана осуществляется редактирование церковных книг, в язык которых к этому времени проникло немало русских слов. Целью правки было устранение ненужных разночтений и отклонений от древних текстов, приведение церковных книг в первоначальный, наиболее точно соответствующий греческим оригиналам, вид.
Чисто русские грамматические нормы, обычные в языке ранних литературных памятников, уступают теперь место грамматическим нормам, свойственным церковнославянскому языку. Исправление церковных книг коснулось не только исправления ошибок, искажающих догматы христианской церкви, но и исправления орфографии и графики письма. Это была своеобразная реформа письменности в средневековой Руси.
К концу XIV в. у южных славян был переведен большой корпус церковных текстов, неизвестных на Руси. Переводы были вызваны возросшими потребностями общежительных монастырей и монахов-исихастов в аскетической и богословской литературе, правилах иноческой жизни и полемических сочинениях против католиков. Эти тексты были или переведены с греческого языка (творения Исаака Сирина, Петра Дамаскина, Саввы Дорофея, Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Григория Паламы и др.), или представляли собой основательно переработанные по греческим оригиналам старые переводы (например, «Лествица» Иоанна Лествичника). К середине XIV в. болгарская и сербская церкви вслед за греческой окончательно перешли на Иерусалимский устав. Это исключительно важное событие потребовало нового перевода богослужебных текстов, чтение которых предусматривалось Иерусалимским церковным уставом.
Влияние языка южнославянской церковной литературы на язык русских памятников XV–XVIIвв. большинство исследователей называютвторым южнославянским влиянием . Ввел этот термин А.И. Соболевский, описавший это явление на обширном материале средневековых рукописей. Первое южнославянское влияние относится кX–XIвв. – периоду крещения Руси. Но термин «первое южнославянское влияние» в литературе не принят. Дело в том, что старославянский письменный язык, перенесенный на древнерусскую почву, сам испытывал значительное влияние со стороны древнерусской народной речи.
Второе южнославянское влияние лишь частично было обусловлено влиянием южнославянской литературы и деятельностью южнославянских и греческих богословов. Огромную роль сыграли и внутренние процессы развития русского государства: успешная борьба русского народа против монголо-татарского ига, обеспечившая быстрое экономическое и политическое укрепление и возвышение Московской Руси, рост авторитета великокняжеской власти и московской православной церкви. Правящие круги Москвы стремились объединить разрозненные феодальные области в мощную восточнославянскую державу. В это время возникла и получила широкое распространение идея преемственности Москвы по отношению к Византии, которая выразилась в известной формуле «Москва – третий Рим». Суть ее состояла в том, что Москва объявлялась наследницей Рима и Византии. Именно она призвана была стать средоточием книжности, литературы, культуры и христианской религии: «Дъва Рима падоша, третий Римъ стоитъ, четвертому не бывать».
В 1453 г. после 52-дневной осады под ударами турок пал Константинополь, второй Рим – сердце некогда огромной Византийской империи. Культурные связи русских с греками и южными славянами заметно ослабели во второй половине XIV в. В 1480 г., после бегства ордынского хана Ахмата с реки Угры, Москва окончательно свергла с себя татарское иго и стала единственной православной страной, обладавшей политической и государственной независимостью, собиравшей вокруг себя земли Киевской Руси.
В этих условиях постепенно возникает идея преемственности Москвой духовного наследия Византии. Монах псковского Елеазарова монастыря Филофей провозгласил ее Третьим Римом. Теория «Москва – третий Рим» представляет собой православный вариант распространенной средневековой идеи Вечного Рима – вселенского центра христианства. Учение старца Филофея родилось в полемике с немцем Николаем Булевым, врачом великого князя Московского Василия III, доказывавшим первенство католического Рима. Возражая ему, Филофей писал около 1523–1524 г. в послании великокняжескому дьяку М.Г. Мисюрю Мунехину: «…вся христианская царства приидоша в конець и снидошася во едино царьство нашего государя, по пророчьскимь книгамь то есть Ромеиское царство. Два убо Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не быти».
Теория старца Филофея имеет эсхатологический смысл. После еретичества католиков и вероотступничества греков на Флорентийском соборе 1439 г., в наказание за это вскоре завоеванных турками, центр вселенского православия переместился в Москву. Россия была объявлена последней мировой монархией – Ромейской державой, единственной хранительницей и защитницей чистой веры Христовой, спасительницей духовного мира порабощенных славянских народов.
Внутренней причиной второго южнославянского влияния было и то, что живой русский язык достаточно далеко ушел от церковнославянского языка. В период первого южнославянского влияния русские и болгары хорошо понимали друг друга. В XIVв. этого уже не было. Даже те формы, которые ранее были нейтральными (нози, руц ), теперь воспринимаются как книжные. Таким образом увеличивается дистанция между народным и книжным языком. Усиливается тенденция отделить их друг от друга, как правильный от неправильного. До второго южнославянского влияния между русским и церковнославянским языками имело место взаимодействие, взаимовлияние, что обусловлено большой близостью обоих языков. После второго южнославянского влияния отношения между ними строятся по принципу контраста. Церковнославянский язык должен восприниматься как самостоятельная система, вне соотношения с русским языком. Церковнославянский язык теперь не мог заимствовать при необходимости какое-либо русское слово, книжник должен был отыскать какой-то иной выход. Поэтому чрезвычайно характерно словотворчество, активизация старославянских суффиксов («-тель» ), возрастает роль сложных слов. ВXIVв. заимствуются не готовые лексические единицы, а модели слов, модели сочетания слов, модели конструкций. А это стимулирует появление новых слов. Появляется большое число неологизмов: #рукоплескание, первоначально, любострастие. Многие из новых слов вXV–XVIвв. выпали: #всегорделивый, мудросложный, благотерпеливый.
Реформа, касавшаяся правописания церковных книг, затем оказала влияние и на светское письмо.
Памятники древнерусского литературного языка
2.4.1. Памятники книжно-славянского типа языка: особенности языка и ораторского стиля
К памятникам книжно-славянского типа языка древнерусской народности относятся памятники церковно-религиозного содержания, созданные в Киевской Руси русскими по происхождению авторами в X–XII вв. По жанрам они подразделяются на:
проповедническую литературу – различные разновидности религиозного наставления (поучение, послание, слово).
Поучение – это проповедь наставительного характера, в которой автор развивал идеи нравственного поведения христиан.
Послание – поучение, которое адресовано какому-нибудь реально существовавшему и известному на Руси лицу.
Слово – проповедь, обращенная к пастве, в которой разъяснялся тот или иной догмат веры или велась полемика с ересью.
# «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона (XI в.), «Слово в новую неделю по пасце» Кирилла Туровского (XII в.).
Памятники ораторской прозы Древней Руси характеризуются определенными особенностями: они рассчитаны на устное восприятие в церкви; цель такого произведения – похвальная речь в честь праздника или святого, к дню которого приурочено «слово». Общность задач определяет сходство композиции произведений: текст похвального слова может быть легко расчленен на компоненты. Эти компоненты регулярно реализуются в слове в постоянной последовательности: в зачине дается определение темы обсуждения, далее следуют сентенции, взятые из канонической литературы: автор предлагает авторитетный источник, подтверждающий важность проблемы обсуждения; повествование раскрывает сюжет праздника или историю жизни святого; слово завершается похвалой.
житийную, или агиографическую литературу.
# «Житие Феодосия Печерского» Нестора (XI в.), «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора (XI в.), «Сказание о Борисе и Глебе» (XII в.), «Киево-Печерский патерик».
паломническую литературу.
# «Хождение игумена Даниила» (XII в.).
сборники сочинений религиозно-учительного характера.
# «Изборник Святослава 1076 г.», содержащий более 380 статей разнообразного содержания 25 авторов (в том числе сочинение «О образех», т.е. о риторических фигурах и тропах, византийского грамматика Георгия Хировоска). Основную часть этого Изборника составляют поучения. Он представляет собой сборник строгих нравственно-религиозных правил, которым необходимо было следовать читателям и слушателям, тем, к кому обращалась страстная речь авторов поучений. Поучения в Изборнике могут сменяться «подборкой» афоризмов.
«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона (XI в.)
Иларион – первый митрополит из русских (с 1051 г.) – был широко образованным человеком, опытным оратором, защитником интересов Руси, он был близок ко двору Ярослава Мудрого.
«Слово…» предназначалось для избранных, наиболее искушенных и образованных читателей. В начале своего произведения Иларион подчеркивает, что обращается с риторически украшенной проповедью не к невеждам, а к просвещенной аудитории, искушенной в чтении книг: «Ибо не к незнающим мы пишем, но к тем, кто с избытком насытился сладости книжной…» Оно написано в то время, когда среди духовенства велись споры о роли и заслугах князя Владимира в распространении христианства на Руси.
Тема «Слова…» – смена «Ветхого завета» (Закона Моисея) «Новым заветом» (Благодатью Иисуса Христа). Автор сравнивает иудейскую и христианскую религии, излагает некоторые догматы христианской церкви, восхваляет князя Владимира, при котором на Русь пришло христианство, приобщившего Русь к мировой культуре, его потомка Ярослава, прославляет Киев, воспевает величие русской земли, завоевавшей себе признание во всем мире, страстно защищает русскую церковь, русскую государственность, самостоятельность и независимость Руси.
«Слово…» – яркий образец высокого ораторского искусства. Произведение отличается стройностью, логической последовательностью, торжественностью, поэтичностью и ритмичностью, оно написано по всем канонам ораторского стиля.
В тексте «Слова…» почти отсутствуют элементы восточнославянской речи. Иларион продолжает традиции кирилло-мефодиевских переводов, классические традиции старославянского языка.
В тексте широко используется старославянская лексика: церковная терминология, книжные отвлеченные существительные, сложные слова, греческие и иудейские имена.
В грамматике преобладают старославянские черты: обилие причастий с суффиксами -ущ (‑ющ), ‑ащ (‑ящ) , имперфект в нестяженной форме (# оправдааше ся, привождааше ), употребляются формы двойственного числа, звательного падежа, оборот дательный самостоятельный (# явися бог Аврааму с дящу ему пред дверьми куща своеа ).
Но в тексте «Слова…» встречаются и русизмы: фонетические (# Володимер, полониша, руськ , греческ ; зоря ); лексические (# робичить, гораздитися, старый, котора ); морфологические (# девиц , от троиц , заовц ).
«Слово…» написано в соответствии с духом своего времени: в нем много цитат из Библии, библейских символов и противопоставлений.
Символический способ изображения лишает «Слово…» ясности и простоты.
Основная часть произведения – рассуждение о Законе и Благодати – построена по принципу символического параллелизма. Сами понятия «Закон» и «Благодать» выступают как символы: первый – Ветхого завета, иудейства, подобия истины, вторая – Нового завета, христианства, истины. «Закон» и «Благодать» символически уподобляются библейским образам Агари и Сарры, Ветхий завет Иларион сравнивает с луною, с рождением сына рабыни, Новый завет – с солнцем, освещающим землю, с рождением свободного человека, с росой, с благодатным дождем, источником всеобщего обновления.
В «Слове…» широко представлены и различные другие символические сравнения и параллели, олицетворения, метафоры, многие из которых восходят к тексту Священного Писания. Присутствует олицетворение сил природы, проводятся параллели между образами и обозначаемыми ими предметами (понятиями): «Отъиде бо свтъ луны, солнцу въсiавшу, тако и законъ, благодати явльшейся, и студенство нощное погибе, сълнечнй теплот землю съгрявши». Противопоставляя христианство язычеству, Иларион противопоставляет и ряд понятий, характеризующих эти религии: христианство – благодать, истина, избавление, обновление, нетление, воскрешение, благоверие; язычество – мрак идольский, бесослужение, лесть идольская.
Для «Слова…» характерно использование ораторских приемов: лексические и синтаксические повторы, повторы предикативных метафор, длинные синтаксические периоды (цепи однотипных сложных предложений, построенных по принципу антитезы: # мы со всеми християными славим святую троицу, а Иудея молчить ).
Вторая часть «Слова…», содержащая похвалу князю Владимиру, также написана с использованием различных риторических приемов: риторических восклицаний (# встани, о честная глава, от гроба твоего, встани, отряси сон ), противопоставлений, повторов усилительного назначения (# Встани, виждь чадо свое Георгия, виждь утробу свою, виждь милого своего ), пышных эпитетов, символических параллелизмов (# хвалитъ же похвальными гласы римская страна Петра и Павла… похвалим же и мы… ), олицетворений, метафор, сравнений.
Стиль проповеди Илариона отражает влияние болгарско-византийской литературы; именно к ней восходят изысканная риторика, витиеватость и украшенность слога, библейская образность и символика.
«Слово в новую неделю по пасце» Кирилла Туровского (вторая половина XII в.)
Кирилл Туровский (1130–1182) – писатель, проповедник, епископ города Турова, также был широко образованным человеком.
«Слово в новую неделю по пасце» – более поздний памятник. Он также написан в соответствии с канонами византийского панегирического красноречия. Кирилл Туровский использует те же приемы, что и Иларион: аллегории, символы, повторы, риторические вопросы, антитезы, сравнения, диалоги.
Здесь нет изображения реальной действительности. Художественность создается образностью и символами. Стиль характеризуется аллегоричностью (иносказательностью), приподнятой торжественностью.
«Слову…» Кирилла Туровского свойственен больший лиризм. Кирилл прибегает к образам родной русской природы, включает их в аллегории и метафоры, использует прием олицетворения сил природы. Картина весеннего обновления природы несет в себе символический смысл: окончание зимы и наступление весны символизируют искоренение язычества и распространение христианства, зима выступает символом язычества, весна – христианской веры, бурные ветры – грешных помыслов. Для языка «Слова…» характерно использование слов с конкретной семантикой в отвлеченно-метафорическом значении: зима кумирослужения, лед неверия, душеполезные плоды.
Кирилл создает поэтический образ духовного наставника, сравнивая его деятельность с работой пахаря.
В «Слове…» Кирилла Туровского влияние народно-литературного языка проявляется в большей степени, чем в «Слове…» Илариона. В текст шире проникают отдельные восточнославянские слова и формы: слова с русским «ж» вместо старославянского «жд» (ражаеть) , в глаголах 3 л. мн. ч. систематически встречается мягкое окончание «-ть» (скачуть, хвалять, удивляють), отсутствует оборот дательный самостоятельный, почти не встречаются риторические восклицания.
Это свидетельствует о том, что в XI в. книжно-славянский и народно-литературный типы языка были более разобщены, чем в XII в. В памятники XII в., написанные в книжно-славянском духе, начинают проникать отдельные формы, типичные для живой восточнославянской речи, они начинают сближаться.
Донациональный период развития
Тема 2. Литературный язык Киевской Руси
План:
1. Языковая ситуация в Киевской Руси. Понятие «языковой ситуации».
2. Роль старославянского языка в развитии древнерусского литературного языка. Первое южнославянское влияние.
3. Особенности основных типов древнерусского языка и их отражение в памятниках письменности.
4. Памятники древнерусского литературного языка.
4.1. Памятники книжно-славянского типа языка: особенности языка и ораторского стиля.
4.2. Памятники народно-литературного типа языка.
4. 2. 1. Деловой язык Киевской Руси. «Русская Правда».
4. 2. 2. Художественная литература Киевской Руси. «Слово о полку Игореве».
4. 2. 3. Язык летописи. «Повесть временных лет».
5. Тенденции развития языка в период феодальной раздробленности (XIII– XIV вв.).
2. 1. Языковая ситуация в Киевской Руси. Понятие «языковой ситуации»
В 988 г. произошло крещение Руси, христианская религия утвердилась на Руси в качестве государственной. Это повлекло за собой широкое распространение культовой (богослужебной, житийной и т.п.) литературы. На Руси было построено около 10 тыс. церквей, для их нужд требовалось около 80 тыс. книг. Но до нашего времени сохранилось около 1,5 тыс. книг, за исключением деловых документов.
Период формирования древнерусского литературного языка (X–XI вв.) – это период формирования древнерусской народности.
Предки трех восточнославянских народов – русского, украинского и белорусского – в X–XI вв. составляли единую древнерусскую (древневосточнославянскую) народность, которая сформировалась в результате объединения многочисленных славянских племен, населявших Восточную Европу.
Народность – это этническая общность, связанная единством территории, происхождения, языка, политической истории и культуры, но нестабильная и раздробленная по своей природе в силу господства натурального хозяйства.
В основном процесс объединения разрозненных восточнославянских племен завершился в X–XI вв. Образовалось обширное древнерусское государство во главе с Киевом, который обладал исключительно выгодным географическим положением: через него проходили торговые пути в Византию и на Восток, что, несомненно, способствовало развитию торговых, политических и культурных связей Руси с цивилизованными государствами тогдашнего мира.
Население Киева носило смешанный характер, т.к. в столицу древнерусского государства съезжались люди из новгородских, смоленских и др. земель. Поэтому разговорный язык Киева был достаточно пестрым и объединял в себе черты различных диалектов.
В результате образования сильного централизованного государства происходит концентрация отдельных племенных диалектов, что привело к формированию единого древнерусского языка – языка древнерусской (восточнославянской) народности. Он обладал более богатым словарным составом, более развитым грамматическим строем, чем отдельные диалекты. Развитию общенародного языка способствовало появление письменности в конце Х в. и влияние устного народного творчества.
Большую роль в укреплении единства древнерусского литературного языка и сглаживания местных языковых особенностей сыграл язык Киева – экономического, политического и культурного центра Руси. В Киеве складывается устойчивое языковое единство, т.н. древнекиевское койне .
Койне (от греч. κοινή – «общий») – общий язык, возникший на основе какого-либо господствующего диалекта.
В киевском койне стирались, выравнивались диалектные особенности, устранялись (конечно, далеко не полностью) диалектные различия.
Киевское койне во многом определило нормы древнерусского литературного языка. Нормы киевского койне во всем совпадали с нормами древнерусского литературного языка, тогда как в языке других областей заметна местная диалектная окрашенность. Киевское койне, оказывая выравнивающее воздействие на другие диалекты, в ряде случаев совмещало в себе особенности этих диалектов.
К сферам применения киевского койне относятся:
1) государственная практика (сообщения и доклады нижестоящих должностных лиц вышестоящим, распоряжения и указы князей, договоры между русскими князьями и международные договоры);
2) юридическая практика (устойчивые формулы права, принятые при судебных разбирательствах);
3) практика публичных выступлений (обращения князей и воевод к воинам, «посольские речи», выступления на вече и на княжеских съездах).
Киевское койне, благодаря своему сравнительно нейтральному характеру, становится общерусским говором, который удовлетворяет потребностям Киева в широких связях с другими восточнославянскими землями. Оно распространяется по всей территории Киевской Руси и выполняет функции ее государственного разговорного языка. В нем вырабатывалась хозяйственная, военная и юридическая терминология. Поскольку многие произведения устной народной словесности создавались или перерабатывались в Киеве, киевское койне находит свое применение и в фольклоре.
Нормы древнерусского литературного языка носили менее строгий, менее обязательный характер, чем нормы национального литературного языка.
Существуют различные точки зрения на время возникновения древнерусского литературного языка. Одни ученые считают, что древнерусский литературный язык сложился еще до принятия христианства, о чем свидетельствует высокоразвитая техника книжного дела на Руси. Другие ученые полагают, что до принятия христианства существовала только древнерусская разговорная речь в диалектных вариантах.
С принятием христианства Киевская Русь приняла и язык христианской книжности – старославянский язык, в основе которого лежал солунский диалект древнемакедонского наречия древнеболгарского языка (южнославянский язык). На старославянский язык в IX в. первоучители славян Константин и Мефодий перевели греческие библейские и обрядовые книги.
Старославянский язык был общим литературным языком всех славян, но он варьировался в зависимости от контактов с местной речью, в результате чего возникли различные редакции («изводы») старославянского языка: сербский, болгарский, словенский, русский. Старославянский язык «русского извода» принято называть церковнославянским языком.
На церковнославянский язык было переведено много книг, пришедших на Русь из Византии, Болгарии, Сербии: церковно-учительных, агиографических, церковно-научных (географических, естественнонаучных), исторических, художественных.
С принятием христианства в его византийской форме Древняя Русь оказалась преемницей и хранительницей книжного наследия, созданного со времени Кирилла и Мефодия на старославянском языке в других странах, и в первую очередь в Великой Моравии и Болгарии. От них Древняя Русь унаследовала огромный корпус переводных (главным образом с греческого) и оригинальных древнеславянских памятников: библейские книги, богослужебную и святоотеческую литературу, переводы аскетических и морально-этических произведений, юридические сочинения и многое другое. Этот корпус памятников, общий для всего византийско-славянского православного мира, обеспечивал внутри него осознание языкового, культурного и религиозного единства на протяжении многих столетий, вплоть до начала Нового времени. Особенность восприятия византийской книжной культуры заключается в том, что на Руси (как и во всем православном славянстве) была усвоена по преимуществу культура церковная, монастырская, а светская культура, продолжающая традиции античной, столь важной для средневековой Западной Европы, не получила распространения. Из Восточной Болгарии на Русь шли кириллические книги.
По образцу Византии церкви и монастыри в Древней Руси становятся центрами культуры. Монахи и священники, хорошо знавшие греческий и церковнославянский языки, переписывали и переводили византийскую и болгарскую литературу.
На Руси старославянский язык распространился в процессе переписывания книг, пришедших из Болгарии. Образцом старославянского текста, переписанного на Руси в XI в., является известное Остромирово Евангелие.
Вначале на Руси только переписывались церковные книги, привезенные из Болгарии или Византии, затем большое количество греческих и южнославянских книг были переведены русскими книжниками, а затем – в XII в. – зарождается и начинает быстро развиваться оригинальная литература, созданная русскими авторами: агиографическая и проповедническая. Появляются первые русские писатели – известные деятели русской православной церкви: митрополит Иларион, новгородский епископ Лука, игумен Печерского монастыря Феодосий, игумен Сильвестр, киевский митрополит Клемент Смолятич, епископ Кирилл Туровский, епископ Симон, монах Хутынского монастыря Антоний. Русские авторы вносили в свои произведения исконные восточнославянские языковые черты.
В синтезе этих двух начал – старославянского (южнославянского) и древнерусского (восточнославянского) формируется древнерусский литературный язык в двух его разновидностях: книжно-славянской и народно-литературной. Одновременно с ним существует устная разговорная разновидность древнерусского языка, которая носит диалектный характер.
Языковая ситуация – это совокупность языков или функциональных разновидностей одного языка в их территориально-социальном взаимоотношении и функциональном взаимодействии в границах определенных географических регионов или административно-политических образований.
Языковые ситуации могут быть:
а) экзоглоссными или эндоглоссными;
б) сбалансированными или несбалансированными.
При экзоглоссной языковой ситуации языковое общение в государстве обслуживается несколькими языками; при эндоглоссной – языковое общение в государстве обслуживается несколькими функциональными разновидностями одного языка: литературным языком, просторечием, диалектами. Возможно сочетание экзоглоссной и эндоглоссной языковой ситуации.
При сбалансированной языковой ситуации языки или разновидности языка выполняют один и тот же набор социальных коммуникативных функций и находятся в равноправных отношениях, при несбалансированной – языки или разновидности языка неравноправны.
Б.А. Успенский определил языковую ситуацию на Руси, а затем и в России, с XI по XVII вв., как церковнославянско-русскую диглоссию.
Диглоссия (от греч. δις – «дважды», γλωττα (γλωσσα) – «язык») (или гетерогенное одноязычие ) – это такой способ сосуществования двух отдельных языковых систем в рамках одного языкового коллектива и государства, при котором функции этих двух систем находятся в дополнительном распределении, соответствуя функциям одного языка в обычной (недиглоссийной) ситуации. Применительно к церковнославянскому и русскому языку речь идет о сосуществовании книжной языковой системы, связанной с письменной традицией, и некнижной системы, связанной с обыденной жизнью: по определению, ни один социум внутри данного языкового коллектива не пользуется книжной языковой системой как средством разговорного общения (это обстоятельство, в частности, отличает ситуацию диглоссии от обычного сосуществования литературного языка и диалекта).
Книжная и некнижная языковые системы противопоставляются по способу усвоения, приобретения: если некнижная система усваивается естественным путем, впитывается с молоком матери, то книжная система усваивается искусственным, книжным путем – в процессе формального обучения, что само по себе предполагает определенную кодификацию, т.е. наличие эксплицитно сформулированных правил. Таким образом, книжная языковая система накладывается на некнижную как вторичная, она приобретается в более зрелом возрасте.
Находясь в отношении функциональной иерархически заданной дистрибуции, церковнославянский язык восточнославянского извода и древнерусский язык воспринимались носителями языка как единый язык, представленный в своей книжной и некнижной реализациях.
Церковнославянский язык выступал как книжный, литературный (письменный) язык и как язык сакральный (язык официального религиозного культа), что обусловливает как специфический престиж этого языка, так и особенно тщательно соблюдаемую дистанцию между книжной и разговорной речью. О нем нельзя сказать, что он в полном смысле слова функционировал на Руси, поскольку церковнославянские тексты не создавались, а только воспроизводились русскими переписчиками. Однако церковнославянский язык был известен на Руси и использовался в текстах, читавшихся не только в церквях и монастырях, но и в семьях грамотных людей.
Если вне диглоссии одна языковая система нормально выступает в разных контекстах, то в ситуации диглоссии разные контексты соотнесены с разными языковыми системами. Отсюда члену языкового коллектива свойственно воспринимать сосуществующие языковые системы как один язык, тогда как для внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации видеть два разных языка. Таким образом, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один язык.
В отличие от двуязычия, т.е. сосуществования двух равноправных и эквивалентных по своей функции языков, которое представляет собой явление избыточное (поскольку функции одного языка дублируются функциями другого) и, по существу своему, переходное (поскольку в нормальном случае следует ожидать вытеснение одного языка другим или слияние их в тех или иных формах), диглоссия представляет собой очень стабильную языковую ситуацию, характеризуется устойчивым функциональным балансом (взаимной дополнительностью функций). Ситуация диглоссии может сохраняться в течение многих веков.
Специфика древнерусской диглоссии была в том, что сосуществующие языки были близкородственными. Старославянский (а затем и церковнославянский язык) воспринимался на Руси не как чуждый, инородный язык, а как правильный, «грамотный» язык всех славян, образцовый, книжный язык, в отличие от повседневного разговорного. Восприятие церковнославянского языка как книжной разновидности своего родного языка выражалось в текстологическом способе обучения и кодификации этого языка: каноном правильности, требующим заучивания и постоянной ориентации, служили библейские и богослужебные тексты, занимавшие вершинное положение в ценностной иерархии средневековой книжности.
Понятие языковой нормы, и, соответственно, языковой правильности связывается в условиях диглоссии исключительно с книжным языком, что проявляется прежде всего в его кодифицированности; напротив, некнижный язык в этих условиях в принципе не может быть кодифицирован. Таким образом, книжный язык фигурирует в языковом сознании как кодифицированная и нормированная разновидность языка. Книжный язык, в отличие от некнижного, эксплицитно усваивается в процессе формального обучения, и поэтому только этот язык воспринимается в языковом коллективе как правильный, тогда как некнижный язык понимается как отклонение от нормы, т.е. нарушение правильного языкового поведения, иначе говоря, явления живой речи воспринимаются через эксплицитно усвоенные представления о языковой правильности, которые связываются с книжным языком. Вместе с тем именно в силу престижа книжного языка такое отклонение от нормы фактически признается не только допустимым, но даже и необходимым в определенных ситуациях.
Связь языковой нормы с книжным языком при диглоссии – при том, что книжный язык не может выступать как средство разговорного общения, – определяет нехарактерность социолингвистической дифференциации общества для этой языковой ситуации: одни и те же представления о языковой правильности оказываются едиными для всех слоев общества.
Поскольку при диглоссии два языка воспринимаются как один, а контексты их употребления характеризуются дополнительным распределением (фактически не пересекаются), перевод с одного языка на другой оказывается в этих условиях принципиально невозможным. Невозможно функционирование соотносящихся друг с другом параллельных текстов с одним и тем же содержанием – коль скоро некоторое содержание получает языковое выражение, т.е. выражено на одном языке, оно в принципе не может быть выражено на другом. Для диглоссии характерны: невозможность перевода сакрального текста на разговорный язык и невозможность обратного перевода, т.е. перевода на книжный язык текста, предполагающего некнижные средства выражения; принципиальная невозможность в этих условиях шуточного, пародийного использования книжного языка, т.е. применения его в заведомо несерьезных, игровых целях.
Диглоссию характеризуют ряд признаков негативного характера, которые отличают ситуацию диглоссии от ситуации двуязычия:
1) недопустимость применения книжного языка как средства разговорного общения;
2) отсутствие кодификации разговорного языка;
3) отсутствие параллельных текстов с одним и тем же содержанием (запрет на перевод сакральных текстов и невозможность пародий на книжном языке).
В ИРЛЯ имело место и церковнославянско-русское двуязычие. Эволюция русского литературного языка связана именно с переходом от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-русскому двуязычию, представляющему собой нестабильную языковую ситуацию.
Языковую ситуацию Древней Руси можно представить в виде следующей схемы.
Памятники литературного языка строгой нормы (книжно-славянский тип литературного языка)
Книжно-славянский тип использовался только для текстов Священного писания, литургики(тексты церковных служб), гимнографии (псалмы), агиографии (жития святых), гомилетики (проповеди), церковно-канонической письменности. К памятникам строгой нормы относятся «Изборник» 1076 г., «Слова» митрополита Илариона, Кирилла Туровского, Серапиона Владимирского, «Житие Феодосия Печерского», «Чтение о Борисе и Глебе», «Сказание о Борисе и Глебе» и др.
Иларион – первый митрополит из русских (с 1051 года, но в 1054 митрополитом был уже грек Ефрем). «Слово о законе и благодати» дошло в списках XIV–XV вв.
«Слово в новую неделю по пасце» Кирилла Туровского написано во второй половине XII, дошло до нас в списках XIII в.
«Сказание о Борисе и Глебе» написано в начале XII в. (убийство произошло в 1015 г.). Древнейший список – в Успенском сборнике (XII–XIII вв.).
Общие черты памятников книжно-славянского типа
(примеры из «Слова в новую неделю по пасце» Кирилла Туровского и «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, «Сказания о Борисе и Глебе»)
Лексико-фразеологические:
- Сложения: благоверие , кумирослужение, душеполезныя, многомилостивое,многописание, богоблаженныи, страстотерпьца, плододавец .
- Отвлеченная лексика: мучение, естество, истина . Например, в «Слове на антипасху» Кирилла Туровского: поновление , удивление, устрашение, обновление, избавление, попрание и т. п.
- Старославянизмы: злато, гласъ, страна, единъ , агньци, азъ . Например, у КириллаТуровского и Илариона встречаются только неполногласные варианты (врата, млеко, сдравии ; кроме Володимер у Илариона), ра (работа, равьна, разумъ ; у Илариона робичищ ), много щ (дщерь, отвеща, аще, хощеши ; особенно в причастиях). Даже в «Сказании о Борисе и Глебе» неполногласные формы явно преобладают (преже , глас, драгыи, престати, область, злато и мн. др.). Среди старославянизмов с щ (тещи, мощи, нощь, тысяща и др.) и нескольких десятков причастий с суффиксами -у щ , -ащ всего 7 случаев с ч (2 ночь , 3 формы хотети , причьтуче ,поступяче ). Начальные е, а: единъ , агньци, азъ.
- Грецизмы: евангелие, алтарь, келья, кедр, киноварь, попъ, трапеза.
- Библейская фразеология: благодать божия, дух святыи, царствие небесное, христово стадо.
- Нагнетание синонимичных слов: б ѣ блаженыи тъ правьдивъ и щедръ, тихъ , крътъкъ, съм ѣренъ (о Борисе); и сице ему стенющю и плачущюся, и слезами землю омачающю (Глеб).
- Противопоставление, антонимы: благодать, истина, избавление, пакыбытие, благов ѣрие – мракъ идольскыи, б ѣсослугание, лесть идольская, идольскыи знои (Слово о законе и благодати).
- Метафоры. В «Слове в новую неделю по пасце» язычество сравнивается с зимой, христианство – с весной, откуда метафоры зима греховная, зима языческого кумирослужения, лед неверия . Ряд метафор и аллегорий устойчивы, традиционны (в том числе и аллегория зимы с язычеством). Образ пахаря – духовного учителя, просветителя, семя духовное, млеко учения .
Морфологические:
- Нестяженные формы прилагательных и имперфекта: великоуоу моу , идяа ше, можаа ше .
- Окончания на –я (-ѧ) : всякоя ут ѣхы, всея земля , по вся дни, язык от жажа исыхаеть (Кирилл), от единоя жены, на овца пажити своея («Сказание»). В «Сказании» иногда встречаются с «ятем»: мое ѣ, ветхо ѣ. У Илариона только 1 положивыи душу за овц ѣ.
- Твердые окончания в 3 лице глаголов: хвалитъ , славятъ .
Синтаксические:
- «Дательный самостоятельный».
- Развитая система сложноподчиненных предложений, обилие подчинительных союзов с четкой семантикой: а, ако же, акы, аще, бо, да, зане, иже, любо, понеже, егда и др.
- Прямые повторы, подхваты, синтаксический параллелизм: «Образъ же закону и благодати Агаръ и Сарра , работнаа Агаръ и свободна Сара , работнаа прежде ти, потомъсвободнаа »; «Ты бѣ, о честна главо, нагыимъ одѣние; ты бѣ алчьныимъ кърмитель; ты бѣжаждущимъ утробѣ ухлажение; ты бѣ вдовицамъ помощникъ, ты бѣ странныимъ покоище; ты бѣбескровныимъ покровъ» (Иларион); «Увы мнѣ, свѣте очию моею, сияние и заре лица моего,бъздро уности моеѣ, наказание недоразумения моего! Увы мнѣ, отче и господине мой!» (Сказание о Борисе и Глебе).
- Сравнение: «Красота воину оружие и кораблю ветрила, тако и правьднику почитание книжное» (Изборник 1076).
Пути и формы сближения книжно-славянского языка с народно-литературным в XV - первой половине XVI вв ("Повесть о Петре и Февронии").
Эволюция книжно-славянского типа языка Московского государства в 14 –нач.16вв.
В Московский период огромным влиянием пользовался книжно-славянский язык. Его развитие и обособление было вызвано как экстралингвистическими, так и внутриязыковыми факторами. Этот тип языка употреблялся для языка духовной лит-ры, повествовательно-исторической и публицистической лит-ры и в новых появившихся жанрах ораторского типа. К важнейшим типам добавляется использование архаизмов, то есть неупотребительных в современной речи форм.
Первое южнославянское влияние – внешний процесс, отразившийся на внешнем облике русских книг. Это изменения русской графики и орфографии под влиянием болгарской и сербской, испытавших в свою очередь, влияние греческого алфавита и орфографии. Влияние этого процесса сказывается в восстановлении букв, не обозначающих звуков живой русской речи 15-17вв.: омега, кси, пси, фита, ижица, в употреблении и смешении Ь и Ъ, также не обозначающих живых звуков в исследуемый период, в написании слов с плавными до гласных, свойственном южнославянским языкам и не характерном для РЯ, в написании i (и десятиричное) перед гласными. Под влиянием южнославянских церковных книг в русских памятниках 15-16вв. увеличивается количество титлов (надстрочных знаков, указывающих на сокращенное написание слов). В книгах 15-17вв. изменилось начертание букв, многие из которых стали напоминать буквы греческого алфавита. В текстах появились идеографические элементы.
Второе южнославянское влияние – влияние церковной литературы южнославянского языка на язык памятников. По своему происхождению южнославянское влияние не столько иноязычное, сколько архаизирующее (активизация церковно-славянского языка раннего периода). Был основан институт Книжная Справа – для исправления текстов. Орфография противопоставлялась живому произношению. В некоторых книгах появляется знак придыхания. Появляются новые начертания букв (по греческому образцу: вместо остроугольных – округлые очертания). Увеличивается число титлов. Возвращаются слова в старославянской огласовке (врех-верх, влок-волк). Были восстановлены некоторые грамматические формы (Звательный падеж, аорист, перфект, +квамперфект, имперфект). Активизируются словообразовательные элементы (-ство, -тель). Широко вводились в практику идеографические знаки (крест в кружочке – смерть).
Пути и формы сближения книжно-славянского типа языка с народно-литературным в XVI – первой воловине XVII века.
Русский язык эпохи Московского государства имел сложную историю. Центром Русского государства становится Москва. Продолжают формироваться диалектные особенности. Оформились основные диалектные зоны – северновеликорусское наречие и южновеликоруссское наречие.
Говор Москвы как столицы Русского государства постепенно воспринимался в сознании всех русских как образцовый и лёг в основу русского национального литературного языка.
В литературном языке Московского государства продолжают развиваться книжно-письменные традиции Киев¬ской Руси. В то же время в русском разговорном языке возрастают структурные изменения, отделяющие его от книжно-письменного. Между русским разговорным язы¬ком и книжно-славянским языком образуются значитель¬ные расхождения.
В книжно-славянском типе литературного языка получают распространение архаизированные написания, осно¬ванные на южнославянской орфографической норме, возникает особая риторическая манера выражения, цветистая, пышная, насыщенная метафорами, получившая название «извитие словес» («плете¬ние словес»). Она широко используется в литературе для всемерного повышения авторитета московской вели¬кокняжеской и церковной власти. Этот сложный комплекс явлении в истории русской культуры, литературы и литературного языка получил наименование «вто¬рого южнославянского влияния».
Народно-литературный тип языка не подвергся «второму южнославянскому влиянию». В этот период функции «делового языка» расширяются, возникают новые жанры деловой письменности (судебники, статей¬ные списки русских послов, «Стоглав», «Домострой» и др.). «Деловой язык» обслуживал нужды услож¬няющейся государственной переписки и государственного управления. Его орфографическая практика и словоупотребле¬ние оказали влияние на формирование норм литературного языка.
С XVII в. формируются язык русской науки и нацио¬нальный литературный язык. Усиливается тенденция к внут¬реннему единству, к сближению литературного языка с разговорным. Во 2-й пол. XVI в. в Московском государст¬ве началось книгопечатание, имевшее огром¬ное значение для судеб русского литературного языка, литературы, культуры и образования. Рукописная культура сменилась культурой письменной. Первыми печат¬ными книгами стали церковные книги для богослу¬жения, грамматики, словари, буквари, необходи¬мые для образования и просвещения. Первыми печатными учебными книгами были «Букварь» (1574), изданной во Львове Иваном Фёдоровым, «Грамматика словеньска» Лаврентия Зизания (1596), «Словенская грамматика» Мелетия Смотрицкого (1618), переизданная с дополнениями в 1648, «Лексикон славяноросский» Памвы Берынды (1627).
Развитие и взаимодействие книжно-славянского и на¬родного литературно обработанного языков приво¬дит к образованию трёх стилей с единым структурно-грамматическим и словарным ядром, с широким кругом синонимиче¬ских и иных соответствий между ними – фонетических морфологических, синтаксических и лексико-фразеологических.
Начиная со 2-й пол. XVI в. постепенно сужает¬ся сфера употребления церковно-славянского языка. Церковно-славянские элементы, особенно лексические, вош¬ли в состав русского национального литературного языка, но церковно-славянское наследие было использовано далеко не в полном объёме: даже в книжных жанрах не использовались устаревшие и малоупотребитель¬ные элементы языка. Зато закрепились народно-разговорные элементы. Несмотря на то что новые произведения и новые списки на церковно-славянском языке появлялись в течение XVII, XVIII вв. и даже в начале XIX в., его употребление всё более ограничивается. Он превращается в собственно церковный язык (язык религиозного культа). Этому способствова¬ло «обмирщение» общественной жизни и культуры в эпоху Петра 1. Реформы петровского времени открыли путь для вхождения в русский литературный язык западно-европейских слов и русских народно-разговорных элементов.
В процессе синтеза различных элементов (народно-разговорная основа, черты делового языка, западно-ев¬ропейские заимствования, славянизмы) вырабаты¬ваются нормы русского национального литературного языка.
“Повесть о Петре и Февронии”. Лингвистический строй текста повести в целом прост, близок к разговорному, лексика повести предметна и действенна. Но в выборе грамматических форм автор повести придерживается книжной традиции: он постоянно употребляет аорист и имперфект, перфект со связкой, старые книжные союзы – Аще, яко, иже.